|
 Жан Рене о Рембрандте Жан Рене о Рембрандте
"Отчаянная доброта. Я употребляю это выражение как отправную точку. Его последний портрет, кажется, говорит «У меня такие способности, что даже дикие звери, и те понимают мою доброту». Соображения морали побуждали его к поиску украшательств собственной души, сама его деятельность логично привела к тому, что он пришел к самому себе.
Возможно, это практически единственный случай в истории искусства, когда художник позирует самому себе перед зеркалом с каким-то нарциссическим исступлением, оставляя нам, помимо своего творчества и параллельно ему, серию автопортретов, по которым мы можем проследить как эволюцию его метода, так и влияние этой самой эволюции на человека, на него самого.
Так или все-таки наоборот? В картинах, написанных до 1642 года, Рембрандт предстает любителем роскоши, но роскоши, которая предстает только в изображаемом. Пышность - она в портретах, навеянных духом Востока, библейских сценах, в богатстве декора и часто нелепо-смешных нарядах; на Иеремии крайне премиленькая одежда, его нога на богато вышитом ковре, рядом позолоченные вазы, и это - то, что видимо. Кажется, Рембрандт одержим изобрести или представить условную роскошь, как одержим был нарисовать этот необычный портрет Саскии в костюме Флоры, где изобразил самого себя в пышных одеждах с поднятым стаканом в руке.
Он с самого детства рисует нищих, часто наряжая их в роскошную мишуру, и кажется, что Рембрандт одержим роскошью в то время, как его кисть предпочитает лица отверженных.
Чувствительность завладевает - за редким исключением - его рукой, когда он рисует изящную ткань, например, и отпускает его, когда кисть касается лица.
Даже в молодости он предпочитал лица, изможденные временем. Уже писали, что Рембрандт, в отличие от Франса Халса, к примеру, плохо схватывал черты моделей, иначе говоря, мало замечал различий одного человека от другого. Он не видел отличий, быть может, их и не существует? Или они - обман зрения (trompe-I'cel)?
Его портреты, действительно, за редчайшим исключением раскрывают нам действительные черты модели, изображенный человек не может быть априори ни бессильным, ни уродливым, ни великим, ни никчемным, ни добрым, ни злым, но он может, в каждый отдельный момент, быть таким. И никогда не возникает карикатурно плоских, заранее данных черт! Никогда, как у Франса Халса, нет даже легкого, безоблачного настроения, оно возможно, но только наряду с другими.
Кроме улыбающегося Титуса - его собственного сына - нет безмятежно-спокойных лиц. Мне кажется, все они переживают глубочайшую по своей силе и насыщенности человеческую драму. Драма Рембрандта - его собственное видение мира. Ему интересно знать, что его тревожит, дабы избавиться от этого - его фигуры, все без исключения переживают какой-то надлом, все в поисках убежища.
Рембрант понимает, что он сам переживает этот надлом, и хочет избавиться от него, исцелиться. Рембрандт? Кроме как в нескольких чванливых портретах, он с самых ранних своих картин представляет нам ищущего беспокойного человека, что гонится за вечно ускользающей правдой.
Острота его глаза объясняется не только необходимостью зафиксировать вечно меняющееся отражение в зеркале, которое иногда почти злое (вспомним его отношения с кредиторами), тщеславное (высокомерие в изображении страусовых перьев на бархатной шляпе... и золотых украшений...), но мало-помалу суровость и нахальность его лица уходят, смягчаются. Перед зеркалом по-нарциссически самодовольное созерцание сменяется тревогой, страстным, трепетным поиском.
Вот он уже живет вместе с Хендрикье, и эта чудесная женщина (кроме Титуса, только ее портретам присуща особая нежность и чувствуется признательность мастера) восполнила его жажду чувствительности и нежности. В своих последних автопортретах не читается уже больше никакой психологической установки. Что там можно заметить, так это ауру доброты. Или отрешенности? Здесь это одно и то же.
К концу жизни Рембрандт добреет. Пусть жизнь несправедлива, она ломает и изменяет, строя преграду между миром в виде присущей человеку злости. Злость, агрессия, то, что мы называем чертами характера, наши разочарования, наши желания, жажда любви и славы. Прорвать преграду, дабы влиться в мир!
Эта доброта - или отстраненность, как угодно, - она не для того, чтобы найти и показать правильный способ жизни, она не религиозное действо (а ведь только в подобных моментах отстраненности мастер обретает веру, если обретает ее когда-либо).
Если он предает огню то, что было его сущностью, то только для того, чтобы понять мир, составить себе о нем более точное впечатление, и я предполагаю, что из глубин своей души он изгнал чувства обычной доброты или злости, гнева и терпения, жадности и щедрости. Ему нужен только взгляд и рука. Более того, путем эгоиста он должен был достичь (слово-то какое!) особого типа чистоты, такого почти оскорбительно очевидного в его последнем портрете.
И достиг он этого только средствами живописи, не сворачивая с пути искусства.
Около 1666-1669 года в Амстердаме жил не просто старый пройдоха (верна ли та история с изображениями, предназначенными для гравирования?). Там жил тот, кто остался человеком крайностей, физически он почти полностью исчез, он передвигается только от кровати к мольберту и от мольберта к уборной, тот, кто остался - выражение жестокой доброты, близкой к дебилизму.
Старческая рука, держащая кисть с красно-коричневой краской, взгляд, сфокусированный на предметах, только это, и только это, а рассудок, льющий глаз в этот мир, был безнадежен.
На его последнем портрете он слегка ухмыляется. Слегка. Он знает все, что может знать художник. И, прежде всего, (наконец, быть может?) то, что художник - весь во взгляде, что простирается от предмета к холсту, а также в движении руки, идущей от маленькой лужицы краски к полотну. Весь художник в ней, в этой руке, в ее спокойном движении.
Более того, в ней весь мир: равномерное движение - туда-сюда - дрожь руки создает все роскошества, всю пышность, все навязчивые желания. В действительности, больше ничего и нет. И из-за игры букв - все в руках Великолепной Хендрикье и Титуса. У Рембрандта нет прав на те картины, что он рисует. Человек полностью вошел в свое творение. То, что осталось от него - удача для его надсмотрщиков, но прежде, много-много раньше, он пока еще должен успеть нарисовать "Возвращение блудного сына".
Он умирает до того, как в нем победило искушение стать блаженным."
|









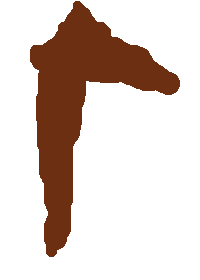






 Жан Рене о Рембрандте
Жан Рене о Рембрандте