|
|
|
Статьи
|
|
Портреты
|
|
|
|
|
|
Графика
|
|
Жанры
|
|
|
|
Нищета
|
|
Счастье
|
|
|
|
|
|
Бедность
|
|
Итоги
|
Книжки о Рембрандте: Г.Д.Гулиа – Г.Шмитт – А.Калинина – Т.Фрис – Г.Недошивин – Э.Фромантен
Гледис Шмитт. "Рембрандт". Роман-биография. Часть 18
Хотя Хендрикье и Титус смущались и всячески хитрили, посылая Рембрандта в ратушу по затеянному ими делу, их просьба, в сущности, не вызвала у него раздражения. Если уж они ведут дела вместо него, а они их и так ведут уже много месяцев, и ведут очень разумно, то с их стороны вполне естественно желать, чтобы городской совет досрочно объявил мальчика совершеннолетним и он мог бы сам завершать любую сделку, а не бегать домой и не просить мачеху поставить свою подпись на необходимых бумагах.
Несколько недель Рембрандт молчаливо предавался негодующему самоуничижению, а затем чуть ли не с радостью согласился на все условия. После покупки Сегерса ему не попадалось на глаза ничего, что могло бы пробудить в нем прежнюю алчность коллекционера, и он не хотел держать в кармане лишние деньги; а если неудовлетворенные кредиторы при встрече с ним на улице отворачивались в сторону, то они по крайней мере перестали врываться к нему в дом и нарушать его покой. Отчет за первый же месяц убедительно доказал, что Хендрикье и Титус ведут дела гораздо успешнее, чем сам Рембрандт. У него были теперь только две обязанности: учить и писать, и на это оставалось столько времени - все долгое напряженное утро и весь спокойный, ничем не нарушаемый день, - что художник только диву давался, как много часов своей жизни растратил он попусту на бесчисленные и докучные хлопоты. Таким образом, расстаться в этот ноябрьский день с мастерской и отправиться в новую ратушу к новому бургомистру Яну Сиксу означало для художника пережить довольно необычное событие, ломавшее привычный ритм его дней.
В отличие от остальных амстердамцев, Рембрандт, как и доктор Тюльп, отнюдь не восторгался красивым и гордым зданием новой ратуши. Он был одним из немногих, кто сожалел о старой ратуше, «по счастью», как говорили амстердамцы, уничтоженной пожаром и уступившей свое место новой, с ее модной каменной облицовкой, ровными, монотонными рядами окон и куполообразной башенкой посередине двускатной крыши под угрюмым серым небом. Что-то в этой постройке напоминало ему нахального выскочку. |
|
Рекомендуемые сайты от Рембрандта: Гледис Шмитт. "Рембрандт". Исследование жизни и творчества Рембрандта » предисловие » | ||||
 Книга первая: |
 Книга вторая: |
 Книга третья: |
 Книга четверая: |
 Книга пятая: |

|

|

|

|
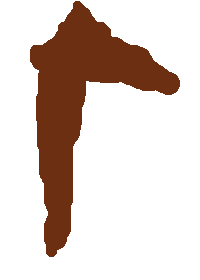
|

|

|

|

|
|
Rembrandt Harmens van Rain, 1606-1669 www.rembr.ru e-mail: help(a)rembr.ru |





