|
|
|
Статьи
|
|
Портреты
|
|
|
|
|
|
Графика
|
|
Жанры
|
|
|
|
Нищета
|
|
Счастье
|
|
|
|
|
|
Бедность
|
|
Итоги
|
Книжки о Рембрандте: Г.Д.Гулиа – Г.Шмитт – А.Калинина – Т.Фрис – Г.Недошивин – Э.Фромантен
Гледис Шмитт. "Рембрандт". Роман-биография. Часть 8
Переносить горе в одиночку, сохранять внешнее спокойствие и пребывать в страшном убеждении, что Саския достаточно скоро узнает все сама, было бы Рембрандту много легче, не будь он уверен, что в известном смысле она уже знает. Держаться же с ней так, как заставляла себя держаться она, значило осквернить лицемерием каждый взгляд, которым они обменивались. Будучи не в состоянии быть с ней целиком, Рембрандт счел за благо быть с ней как можно меньше. Он сделал вид, что они возвращаются к тому образу жизни, который вели до появления ребенка: начал закупать хлеб караваями, птиц дюжинами, мясо тушами, вино бочонками; то и дело подгонял нерадивую Клартье, требуя от нее изысканных супов и пудингов; каждый вечер наполнял дом гостями. Бонус, Тюльп, Хендрик Эйленбюрх, Сильвиусы, Алларт и Лотье, Бол и Флинк, Франс ван Пелликорн и холодная юная особа, с которой недавно обручился племянник бургомистра, - все они приходили, уходили и снова приходили.
Саския тоже никогда еще не была красивее, никогда еще не гордилась своей красотой больше, чем сейчас, когда ее роскошные наряды были вынуты из шкафа и после самой незначительной переделки стали опять сходиться в талии. С мужем, хотя теперь он мог обладать ею когда ему вздумается, она снова вела себя с уклончивостью первых недель их знакомства, и он то и дело замечал за собой, что подолгу держит в руках теплый жемчуг, только что снятый с ее полной белой шеи, зарывается лицом в складки сброшенного ею красного халата и прижимает к груди ее домашние туфли.
Но темная тягостная тревога не проходила, и занавес, которым они пытались отгородиться от нее, помогал далеко не всегда: Саския - Рембрандт знал это - часто позволяла себе разные причуды только для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то такого, что заявляло о себе даже за тяжелыми складками этого занавеса.
И вот настал вечер, когда перестала лгать даже кормилица. Когда она подала хозяйке красный халат и начала возиться с огненными кудрями Саскии, с ее широкого круглого лица впервые сошло выражение притворства. Она с присвистом вздохнула и опасливо покосилась на колыбель. |
|
Рекомендуемые сайты от Рембрандта: Гледис Шмитт. "Рембрандт". Исследование жизни и творчества Рембрандта » предисловие » | ||||
 Книга первая: |
 Книга вторая: |
 Книга третья: |
 Книга четверая: |
 Книга пятая: |

|

|

|

|
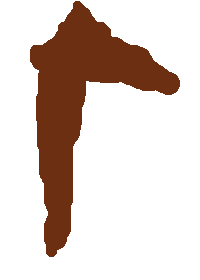
|

|

|

|

|
|
Rembrandt Harmens van Rain, 1606-1669 www.rembr.ru e-mail: help(a)rembr.ru |





