|
|
|
Статьи
|
|
Портреты
|
|
|
|
|
|
Графика
|
|
Жанры
|
|
|
|
Нищета
|
|
Счастье
|
|
|
|
|
|
Бедность
|
|
Итоги
|
Книжки о Рембрандте: Г.Д.Гулиа – Г.Шмитт – А.Калинина – Т.Фрис – Г.Недошивин – Э.Фромантен
Гледис Шмитт. "Рембрандт". Роман-биография. Часть 15
Однако, приехав в отчий дом в час красного осеннего заката, когда темнеющий розовый свет заливал маленькую гостиную и все стоявшие там предметы, до сих пор дорогие сердцу и бережно хранимые, Рембрандт сразу увидел, что первая цель его приезда не будет достигнута: порядок, пристойность, ощущение зажиточности и вековой устойчивости привели в благоговейный трепет дочь бедного рансдорпского сержанта, не владевшего почти никаким имуществом и вечно переезжавшего с места на место. Ее семья мечтала именно о таком прочном доме, в котором живут из поколения в поколение и за который полностью заплачено. Праздничные оловянные тарелки, выставленные к ужину, были именно такой посудой, которой Хендрикье жаждала с детства: они казались ей более подлинными, чем весь делфтский фаянс и венецианское стекло, ежедневно бывавшее у нее в руках на Бреестрат. При Адриане и Антье она держалась так же смиренно, как в присутствии Алларта и Лотье, а выцветшая карта в гостиной нравилась ей больше, чем полотно Рубенса - вероятно, потому что не пугала ее.
Разговор у братьев не клился, и чем дальше, тем все больше: Рембрандт не мог говорить ни о своих успехах - тогда показалось бы, что он хвастается, ни о своих бедах - тогда брат и невестка осудили бы его. Он только переводил взгляд с Антье на Адриана и обратно, мрачно радуясь про себя, что приехал вовремя. Перемена в них была настолько разительной, что художник то и дело задавал себе вопрос, узнал ли бы он их, если бы они неожиданно появились на пороге его амстердамского дома. «Боже мой, - думал он с сожалением и страхом, - неужели и я изменился так же сильно? Неужели я постарел так же, как они?» Теперь, когда Антье заметно растолстела, плоские невыразительные черты ее лица казались еще более стертыми. Что же до Адриана, то брат страшно исхудал и ему явно не следовало больше таскать мешки. Плечи его ссутулились, лицо прорезали борозды морщин, а губы под аккуратно подстриженными усами и редкой седой бородкой выглядели так, словно уже навеки замкнулись. Стариком, который не в силах подняться со стула без подавленного вздоха, калекой, чья кожа даже в розоватых сумерках казалась сухой и желтой, человеком, утратившим всякую надежду на радость или хотя бы покой и гордившимся только тем, что он до сих пор как-то держится, - вот чем был теперь брат его Адриан. |
|
Рекомендуемые сайты от Рембрандта: Гледис Шмитт. "Рембрандт". Исследование жизни и творчества Рембрандта » предисловие » | ||||
 Книга первая: |
 Книга вторая: |
 Книга третья: |
 Книга четверая: |
 Книга пятая: |

|

|

|

|
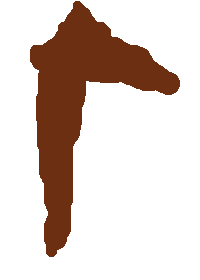
|

|

|

|

|
|
Rembrandt Harmens van Rain, 1606-1669 www.rembr.ru e-mail: help(a)rembr.ru |





