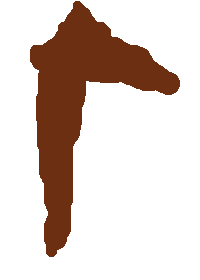Ночной
дозор, 1642
|
|

Фауст, 1652
|
|
|

Портрет синдиков
цеха сукноделов,
1662
|
|
|
|

Старик, 1631
|
Гледис Шмитт. "Рембрандт". Роман-биография. Часть 13
- О! Да, ты, я вижу, тоже закончил, - сказал он, оборачиваясь и засовывая гребень в карман. - Значит, увидимся завтра. Спокойной ночи!
Но молодой человек, стоявший у пустого мольберта и освещенный сзади бледным светом единственной зажженной лампы, не двинулся с места.
- Я не смею задерживать вас - я понимаю, что вы спешите вниз к... ужину, но, быть может, вы все-таки уделите мне несколько минут?
- Разумеется, Фердинанд, - как можно более сердечно ответил Рембрандт.
- Я хотел предупредить вас, что решил уйти. Прозвучало ли в его словах невысказанное обвинение?
Лица юноши было не видно - лампа сзади озаряла лишь темные волосы, окружавшие его как ореол.
Но если даже в словах был скрыт намек, Рембрандт не хотел понимать его: он никому не позволит омрачить его радость.
- Ну что ж, - согласился он, - ты вполне подготовлен к тому, чтобы обзавестись собственной мастерской. Я полагаю, наши друзья удивляются, почему ты не сделал этого раньше.
- Я был счастлив, оставаясь с вами, учитель. - Это было сказано тихим, серьезным, дрожащим голосом, который звучал невольным упреком Рембрандту за слишком легковесную и напускную сердечность. - Когда в дом вошло несчастье и беда обрушилась на вас и ваших ближних, я привязался к вам еще больше.
Бол неопределенно и неловко развел руками и добавил:
- Это был мой дом.
- Да, видит бог, годы были тяжелые: сперва история с портретом стрелков, потом Гертье... - начал художник и тут же смолк, представив себе два образа, каждый из которых еще несколько месяцев назад разом лишил бы его мужества: огромное, уже закоптевшее от дыма полотно, к которому небрежно прислонены пика и мушкет, как это было в последний раз, когда он видел его, и увядшие анемоны, цветы Фердинанда Бола, на столике у кровати умирающей Саскии.
- Я и сейчас не ушел бы, если бы думал, что нужен здесь. Но, мне кажется, я прав, полагая, что больше не понадоблюсь вам.
Молчание, нависшее между ними, длилось слишком долго.
- Мне будет недоставать тебя, Фердинанд, и ты это знаешь, - сказал наконец художник.
- Мне тоже, учитель. Но так будет лучше. Обстоятельства меняются, не могут не меняться, и это даже хорошо...
«Нет, ты только так говоришь, а сам в это не веришь, еще не веришь, - думал Рембрандт. - Лет через десять ты простишь меня, но тебе понадобится десять лет, чтобы понять, почему я захотел жить, а не сошел в могилу вместе с нею».
- Да благословит вас бог, учитель, и да пошлет он вам счастья!
«Ну что ж, - думал Рембрандт. - Тебе не придется видеть меня, не придется видеть, как живые предают мертвых. Но разве вся жизнь не есть бесконечная цепь предательств? Разве я не предал Лисбет и ван Флита, чтобы очистить место Саскии, как теперь предаю и ее, и тебя, и Гертье ради Хендрикье?»
- Благослови бог и тебя! - отозвался он. - Желаю всяческих успехов на новом месте. И не забывай время от времени позволять себе удовольствия: человеку отпущено меньше времени, чем кажется вам, молодым.
Ему хотелось, чтобы юноша подошел и обнял его, чтобы рука, поддерживающая голову умирающей, охватила его плечи, чтобы прощение, которое приходило вслед за пониманием, излилось на него, по-человечески жалкого и недостойного. Но объятия не последовало - его заменило быстрое сдержанное рукопожатие, на которое художник ответил таким же рукопожатием, и Фердинанд Бол молча удалился, окончательно и безвозвратно унося с собой связанные с ним воспоминания о прошлом.
Рембрандт вернулся к окну и долго стоял там, глядя на снег, черные ветви, изогнутый мостик, карнизы освещенных окон и думая о бесчисленных могилах, которые занесет сегодня сугробами. Мертвые либо спят в холодной тьме и не знают ничего, либо знают и прощают все - так твердил он себе раньше, так твердил он себе и теперь, только более настойчиво, потому что ему надо было просить прощения за многое. «Спите спокойно, мать и отец! Спите спокойно, Лисбет и Геррит! Ты тоже спи спокойно, любимая, и даруй мне прощение, ибо без него я не напишу твои глаза так, чтобы они были живыми».
По пути вниз, держа в одной руке лампу, а другой отирая глаза, он снова вспоминал о мушкете и пике, небрежно прислоненных к великолепно написанному золотому галуну и серебристо-голубому атласу, и о ее ясном детском личике, ныне уже потускневшем и обреченном, как все полотно, потемнеть от многолетней копоти и дыма. «Ну что ж, Саския, - подумал он, - во всяком случае, твой мальчик доволен жизнью. Твоему шедевру повезло больше, чем моему». И он счел подлинным утешением, особой милостью судьбы то, что у лестницы его ждала не Хендрикье, а Титус, розовый и проголодавшийся.
читать далее »
стр 1 »
стр 2 »
стр 3 »
стр 4 »
стр 5 »
стр 6 »
стр 7 »
стр 8 »
стр 9 »
стр 10 »
стр 11 »
стр 12 »
стр 13 »
стр 14 »
|