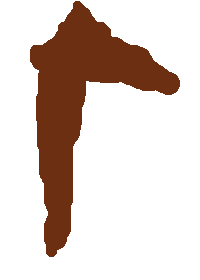Еврейская
невеста, 1665
|
|

Семейный
портрет, 1666-68
|
|

Пир царя
Валтасара, 1635
|
|
|

Давид и Урия, 1665
|
|
|
|

Христос
в Эммаусе, 1648
|
Гледис Шмитт. "Рембрандт". Роман-биография. Часть 3
На улицах намело целые сугробы, затем снегопад сменился дождем, за которым опять последовал снег. Слякоть то подмерзала, то снова таяла, окна затянуло льдом грязно-железного цвета. Толстый слой его, все более чернеющий от густого дыма - в Амстердаме отапливались торфом, - еще держался на стеклах, когда в один прекрасный вечер Николас Питере, чаще именуемый доктором Тюльпом, явился к Питеру Ластману и нарушил покой, обретенный с недавних пор художником.
Доктор занимал в обществе такое положение, что друзья не могли не принимать его у себя, хотя Тюльп постоянно бывал как в больницах для чумных, так и в зараженных домах. И это было не просто легкомыслием с его стороны: Ластман, равно как многие их общие знакомые, давно заметил, что доктор испытывает какое-то дьявольское удовольствие, рассказывая хозяевам, где он сегодня побывал и что мог принести с собою.
- Шесть смертных случаев за день. Завтра, вероятно, будет больше, - объявил он, пробираясь между мольбертами в тот конец опустевшей полутемной мастерской, где стоял Ластман, который забрел туда от нечего делать и теперь выбирал какой-нибудь старинный горшок, чтобы посадить в него гиацинт. - Я принял ванну и окурил себя, но не обижусь, если вы не захотите пожать мне руку.
Вместо извинения хозяин указал глазами на драгоценную глиняную посудину позднеримского периода, бережно прижатую им к груди.
- Любуетесь своими древностями, Питер? - осведомился врач.
- Ошибаетесь. Госпожа ван Хорн подарила мне луковицу гиацинта, и я искал, куда бы ее посадить. - Ластман внезапно почувствовал, что он не в силах больше оставаться в мастерской, среди бумажек, усеявших пол, сиротливых мольбертов и незанятых табуретов. - Пройдем-ка лучше в приемную да выпьем по стаканчику - я уже кончил работать.
В приемной по крайней мере пылает всеочищающий огонь и не так заметна чернота ночи за окнами - занавеси давно задернуты.
- Нет, благодарю - я тороплюсь в больницу. А завернул я к вам по дороге только для того, чтобы повидать вашего ученика Рембрандта. Мне пришлось тут извлечь утробный плод, и я хочу, чтобы парень нарисовал мне его, пока тот еще не разложился.
- К сожалению, ван Рейна уже нет, - ответил Ластман, стараясь не думать о разлагающемся утробном плоде.
- Уже нет?
Вопрос прозвучал так мрачно, что Ластман сразу сообразил: сейчас, когда свирепствует чума, слова «уже нет» понимаются обычно в совершенно определенном смысле - в том, в каком их могут завтра сказать про любого амстердамца, не исключая его самого.
- Я хочу сказать, что он еще на прошлой неделе уехал в Лейден.
- Уехал в Лейден? - Худое строгое лицо врача дрогнуло, и Тюльп рассмеялся. - Выходит, он бросил вашу мастерскую и пошел своим путем?
- Выходит, что так: он, по-видимому, склонен открывать душу лишь тем, кто верит в его гений как в истину, не требующую доказательств, а я отнесся к нему недостаточно восторженно. Но у меня есть другой ученик, Ларсен...
- Не надо. Другой меня не устраивает.
Значит, доктора интересовал не столько утробный плод, сколько встреча с сыном мельника?
- Поверьте, Николас, самонадеянности у него было больше, чем таланта.
- Несомненно. Но весь вопрос в другом - сколько у него таланта.
Ластман посмотрел в темноту и различил мольберт, за которым работал раньше лейденец. Надо будет убрать его, да поскорее.
- Мне трудно судить об этом, - ответил он. - Ван Рейн не пробыл у меня и полугода.
- У вас остались его работы - картины, рисунки? Ну почему все они - и Тюльп, и госпожа ван Хорн, и Алларт, и маленький Хесселс - никак не выбросят из головы этого малого? Просто злость берет!
- Только клочки и обрывки - наброски вроде тех, что вы видели в прошлый раз. Кроме них - всего одна незаконченная картина.
- Я покупаю их. Да, да, я не шучу - я в самом деле покупаю их. Сколько они стоят? Два флорина? Три флорина? Назначайте цену.
- Я обману вас, если запрошу больше одного флорина.
- Вам виднее.
- Вы бы хоть раньше взглянули на них.
- Зачем? Если они похожи на то, что я уже видел, значит, они достаточно хороши. Велите Виченцо завернуть их, ладно? Я зайду за ними на обратном пути из больницы.
Перспектива не из приятных! Виченцо ушел в театр, служанки к тому времени уже лягут в постель. Если Ластману не удастся разбудить одну из них, он должен будет сам открыть дверь позднему гостю, а ведь на сей раз тот явится, не приняв ванну и не окурив себя.
- Стоит ли беспокоиться? Завтра я все пришлю вам с одним из учеников, - предложил художник.
- Нет, эти вещи нужны мне сегодня. У меня выдался тяжелый день, а вечер будет еще труднее. Вот я и хочу вознаградить себя, посмотрев перед сном работы ван Рейна.
- Извольте, я приготовлю.
- Не вздумайте дожидаться меня - это глупо. Заверните их и оставьте в вестибюле. Никто их там не возьмет - сейчас слишком темно.
Держа в одной руке глиняную посудину, а в другой свечу, Ластман проводил гостя до двери, и, когда она захлопнулась за доктором, преградив доступ в дом порывам колючего ветра, художник со вздохом поставил горшок на стул у входа - он вернется за ним позже, после того как покончит с предстоящим неприятным делом. Тогда уж он с особенным удовольствием займется своей луковицей.
Возвратясь в мастерскую, Ластман опустил свечу на каменную плиту для растирания красок и открыл большой венецианский сундук, почти доверху набитый ученическими работами, которые складывались в него на протяжении многих лет. Самые старые из них, те, что лежали на дне, уже неприятно припахивали плесенью. Вещи Рембрандта, равно как и Ливенса, лежали наверху, и художник вытащил их, не рассматривая, наугад - все равно при таком скудном освещении ничего толком не разглядишь.
Пока он заворачивал их, опять пошел мокрый снег, по черным окнам что-то резко застучало, в камине, стоявшем на другом конце комнаты, резко зазвучали холодные вздохи ветра. Когда Ластман перевязал наконец рисунки бечевкой, вихрь студеных хлопьев, низвергавшийся с неба, еще более усилился, и, открыв входную дверь, художник увидел, что вся пустынная улица уже покрыта льдом. На то, чтобы выставить пакет, у него ушло всего несколько секунд, после чего он опять очутился в доме и тут же поймал себя на том, что вытирает пальцы о бархат камзола с такой тщательностью, словно прикоснулся не к бумаге, а к руке доктора. Сам не понимая почему, он чувствовал, что вестибюль - удивительно подходящее место для последних работ лейденца, которые врач унесет с собою, возвращаясь домой после полуночных трудов. Эти грубые, нежеланные вещи оказались там, где им и надлежит быть, - в безотрадной и безлюдной темноте зимней ночи.
читать далее »
стр 1 »
стр 2 »
стр 3 »
стр 4 »
стр 5 »
стр 6 »
стр 7 »
стр 8 »
стр 9 »
стр 10 »
стр 11 »
стр 12 »
стр 13 »
|